«Восприятие и истолкование стихотворения Ф. Тютчева «Певучесть есть в морских волнах…
Певучесть есть в морских волнах,
Гармония в стихийных спорах,
И стройный мусикийский шорох
Струится в зыбких камышах.
Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в природе,-
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаем.
Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник?
Стихотворение композиционно разбито на две части, имеющие противоположное настроение и две основные темы. Размышления лирического героя направлены на осознание гармонии, которая объединяет стихии. При этом особое внимание уделяется описанию пейзажа и его тонкостям. Герой наслаждается увиденным. Мерный гул волн, шорох камыша навевают на героя чувство умиротворенности. Даже стихию автор воспринимает лишь как возможность восстановить нарушенное равновесие в силах природы.
Далее размышления лирического героя приводят к человеческим отношениям. И вот автор развивает мысль о том, что люди живут обособленно, существуют отдельно от природы. И эта самостоятельность, которую человек воспринимает как свободу, противопоставляет его окружающему миру. Автор задает философский вопрос, почему люди не могут существовать так же гармонично, как и природные стихии? Его душа, которая должна звучать созвучно вселенной, но раздираемая внутренними противоречиями, осознает потребность существовать в гармонии с природой.
В четвертой строфе, которая не публикуется в популярных изданиях, лирический герой обращается к библейской мудрости, называет крик души «гласом вопиющего в пустыне». Ни земля, ни небо не дают ответа на вопрос, поскольку он кроется в глубинах самой человеческой сущности. Природа не может дать ощущение гармонии, она лишь подает людям пример. Поэтому Тютчев изображает человека в образе камыша, который растет на самой кромке моря, пытается роптать, однако погибает без единения с природой, лишившись ее питательной силы.
Художественные приемы, используемые автором
Исходя из того, что стихотворение «Певучесть есть в морских волнах...» содержит философские раздумья, его относят к лирическим произведениям, наполненным глубокой грустью, характерной для творчества Тютчева. Разнообразие художественных приемов, используемая автором в первой части произведения, отделенной от второй при помощи синтаксиса, помогает красочно описать гармоничное состояние природы. Применение метафор, приём, используемый Тютчевым постоянно, оживляет морские волны, камыши и подаёт читателю готовую картинку с живой красотой природы.
Большую роль в создании возвышенной атмосферы, побуждающей читателя к философии, играет использование заимствованных элементов, принадлежащих Священному Писанию, цитат великого французского философа Блеза Паскаля и древнеримского поэта. При этом фраза Авсония выступает в качестве эпиграфа, который дополняет главную тему стихотворения. Цитаты, органично вписанные в текст без явного указания на источник, при помощи ассоциаций и обращения к глубокой человеческой памяти образованного человека, предоставляют читателю расширить границы осознания основной идеи. Небольшое четырехстопное стихотворение не может содержать в себе ответы на вопросы мироздания, поэтому Тютчев, при помощи художественных приемов, позволяет читателю искать ответ в философских размышлениях.
История написания

В силу сложившихся обстоятельств, долгое время своей жизни Федор Иванович был вынужден жить в Санкт-Петербурге. Шумный, грязный город и его особый климат угнетали писателя. Кроме того, это отрицательным образом сказывалось и на здоровье Тютчева. Поэтому он совершал длительные прогулки в пригороде. Великолепие природы, ее строгость и необъяснимая красота побуждали автора к философским размышлениям. В общей сложности, писатель провел в Санкт-Петербурге тридцать лет. Из них первые десять - только наездами. Однако и эти недолгие поездки в Северную столицу позволили найти утешение в близлежащих морских просторах, лесах и полях.
Там, где обыватели видели лишь грозную стихию, Федор Иванович находил гармонию и единение. Большинство жителей побережья Балтийского моря воспринимали бескрайние бушующие просторы исключительно как средство существования, источник пищи и прибыли. Для Тютчева же море являлось источником вдохновения.
Стихотворение «Певучесть есть в морских волнах...» было написано во время одной из прогулок по побережью. Его грусть и драматизм основаны на личностных переживаниях автора. Именно 11 мая 1865 года исполнилось девять дней с даты смерти его детей. Вследствие тяжелой болезни, годовалый сын и дочь от любимой женщины скончались, что писатель очень тяжело переживал.
Первоначально, написанное в дороге стихотворение не имело названия. Его первая публикация в журнале «Русский вестник», в том же, 1865 году, была озаглавлена редактором В. Брюсовым «Подражание». Интересной особенностью этой публикации является то, что стихотворение имело все четыре строфы. В последующих редакциях автор сократил его до трех четверостиший. Последняя же строфа, как правило, печаталась в примечаниях или разделе «варианты». Многочисленные автографы, принадлежащие перу Тютчева, предлагают различное количество строф. Последний сборник сочинений, выпущенный еще при жизни Федора Ивановича, также содержал стихотворение в сокращенном варианте.
Современники связывают такие изменения с отзывом, полученным от Ивана Сергеевича Аксакова, который в письмах к дочери автора, Анне Федоровне, отзывался о стихотворении, как о прекрасных и полных смысла, но смущала публициста последняя строфа, в которой он нашел иностранные слова.
Философия в творчестве Тютчева
Первый датируют 20-ми годами XIX века, произведения, написанные в этот период, отличаются поверхностностью, однако имеют скрытый философский подтекст, в них объединены такие понятия, как любовь и природа;
Второй период длился на протяжении 30-40-х годов, в произведениях великого поэта звучат тревожные нотки, философские мысли становятся все более глубокими, наиболее популярной темой становятся путешествия и переезды литературного героя;
Третий, последний, период окрашен нотами глубокого отчаяния и безысходности.
Хотя философское направление является главной темой практически всех произведений Тютчева, это нельзя считать его характерной отличительной чертой. Скорее, такое направление является модным веянием, нашедшим отражение в литературе того времени.
Жизнь в Германии, где Федор Иванович занимал дипломатическую должность, позволила ему провести сравнительный анализ отсталой России и реформистских прогрессивных идей, которые активно культивировались в Европе. Возвращение на Родину показало, что принципы новой цивилизации находят отражение в умах соотечественников. Это пугало и печалило поэта. В своих произведениях он предугадывает политические, общественные и личностные кризисы, которые могут возникнуть на основе грядущих изменений.
Особую роль в своем творчестве Тютчев уделяет размышлениям о роли славян в судьбе всего мира. Именно здесь можно увидеть первые идеи о том, что объединение славянских народов, с их исконной верой и обычаями, поможет образовать сильное и влиятельное государство. Однако Тютчев видел Византию центром этого нового православного государства, а Софию его святыней.
Еще одной темой философских размышлений писателя становится хрупкость человеческой жизни, призрачность бытия и противопоставление природной гармонии внутреннему раздору человека. При этом жизнь поэт представляет как что-то быстротечное, уходящее, после чего остается лишь слабый след, грусть и воспоминания. Одиночество является основным состоянием, присущим каждому человека. Стремление прикоснуться к мирозданию, найти для себя ценности окружающего мира являются основной целью жизни. Но главная проблема заключается в том, что его деятельность бесполезна. Человек в творчестве Тютчева лишь созерцатель природы. При этом бесконечная красота и мощь природы и мимолетность человеческой жизни являются основой для размышлений о смысле и внутренней гармонии.
Визуальный комментарий к стихотворении Ф. И. Тютчева «Певучесть есть в морских волнах».
Выражение «мусикийский шорох» в стихотворении Ф. И. Тютчева «Певучесть есть в морских волнах».
Est in arundineis modulatio musica ripis. 1
Гармония в стихийных спорах,
И стройный шорох
Струится в зыбких камышах.
Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в природе, -
Разлад мы с нею сознаем.
Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что, море,
И ропщет ?
И от земли до крайних звезд
Всё безответен и поныне
,
Души отчаянной протест?
Есть музыкальный строй в прибрежных тростниках (лат.).
Май 11. Петербург. «Певучесть есть в морских волнах...» (Лирика . Т. I. С. 199, 423-424 (датируется по списку М. Ф. Бирилевой); ПССП . Т. 2. С. 142, 508-511.)
Стихотворение «Певучесть есть в морских волнах»поэта, чье творчество традиционно относят к « чистому» искусству написано 11 мая в 1865году в непростое для поэта время. Примечательно, что прочитав данное творение, Л. Н. Толстой писал: «Глубина!» Нам, представителям XXI века, также хочется постичь эту «глубину», которую заметил писатель.
Читая первую строфу стихотворения, невольно задаешься вопросом: «Что такое мусикийский шорох»?
Семантика слова
мусикия -"музыка", цслав., др.-русск. мусикия (с XII–XVIII в.; см. Огиенко, РФВ 77, 168). Из греч. μουσική. Позднее вместо него – му́зыка (см.)
«мусикийский»- (устар.) – музыкальный
мусикия (-сѵк-, -и́а), и, ж. Слав. То же, что . Пирование, и трапеза Царская, .. с сладкогласным пѣнием, трубами, и мусикиею. Вед. II 258. Внезапу богиня Фортуна явилась <на сцене>, сидя на шарѣ, и в руках имѣя колесцо, которыя также по мусикии движение имѣли. Арг. II 248. Сей глас был поющей в ночи дщери Малоровой; знала бо колико может звук приятной мусикии умилить душу мою. Зрит. II 151. | В сравн. Глас сладок, яко мусикия. Бобр. Херс. 237.
Мусики́йский (-зик-, -зык-, -сѵк-), ая, ое . Tѣ часы <на воротах ратуши> бьют перечасье мусикийским согласием. Пут. Тлст. I 321. Мы вдруг услышали .. гласы разных музыкийских орудий. Маркиз V 88. Разтлѣвающие душевныя силы мусикийские гласы тамо <в царских чертогах> слышимы. Хрс. Кадм 27.
Данное слово считалось уже устаревшим в XIX веке. Но почему именно шорох мусикийский струится в камышах? С какой целью поэт использует этот архаизм? И как писал Ю. Н. Тынянов: « Тютчев вырабатывает особый язык, изысканно архаистический». Поэтому не возникает сомнения, что архаизм был осознанной принадлежностью его стиля. Этот эпитет Федор Иванович использует неслучайно. Обратимся к эпиграфу стихотворения: «Est in arundineis modulatio musica ripis .» , что значит «Есть музыкальный строй в прибрежных тростниках». Строки принадлежат римскому поэту IV в. до н. э Авсонию.
Авсоний (Ausonius) Децим Магн - лат. поэт; род. ок. 310, Бурдигала (совр. Бордо, Франция), ум. в 393/394 там же. Происходил из знатного галльского рода. С 334 по 364 был преподавателем грамматики и риторики в Бурдигале; с 364 - воспитателем будущего имп. Грациана (375–383). При Грациане А. занимал высокие должности в Римской империи, был префектом Галлии, в 379 - консулом.
Происходил из знатного галльского рода. С 334 по 364 был преподавателем грамматики и риторики в Бурдигале; с 364 - воспитателем будущего имп. Грациана (375–383). При Грациане А. занимал высокие должности в Римской империи, был префектом Галлии, в 379 - консулом. В его поэзии эрудиция в области классической лат. и греч. поэзии соединяется с риторическим мастерством; большую часть наследия А. составляют лит. эксперименты: Eclogae (Книга эклог), Griphus ternarii numeri (Гриф о числе три), Technopaegnion (Технопегнии). Поэзия А. во многом автобиографична: циклы Parentalia (О родных), Commemoratio professorum Burdigalensium [ 3 ] (О преподавателе).
Опять вопрос: Авсония не причисляли к числу выдающихся поэтов Римской империи. Но вот, что пишет М. Л. Гаспаров в своей статье «Авсоний и его время». «Иногда говорится, что великие поэты отличаются от малых тем, что у великих даже небольшое произведение вмещает картину большого мира». Это не так: на это способны и малые поэты, когда у них в руках надежный набор рабочих приемов. Авсоний вместил свою широкую и структурно четкую картину мира в скромную похвалу не слишком большой реке; средства для этого ему дала античная риторика.
Нужно отметить, что поэтическое признание к Тютчеву тоже пришло не сразу, и его творчество современниками не было высоко оценено.
Обратимся к первоисточнику Авсоний
Есть музыкальный строй в прибрежных тростниках;
Гармонию его мы слышали однажды,
И ноты знали все, и такт умолкший каждый
Читали наизусть в далёких тех веках;
И тайны бытия держали мы в руках,
И посреди воды не гибли мы от жажды…
Но преданное раз – не повторится дважды,
Как не воскреснет жизнь в увядших лепестках.
Та музыка ушла, гармония распалась,
И, умудрённым, нам преданье лишь осталось,
Как козлоногий бог полуденной порой
Срезал тростник и звуком тешился чудесным,
Как нимф он в хоровод сзывал своей игрой,
И как жалел людей, забывших о небесном
...
Ф. И. Тютчев
Певучесть есть в морских волнах,
Гармония в стихийных спорах,
И стройный шорох
Струится в зыбких камышах.
Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в природе, -
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаем.
Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что, море,
И ропщет ?
И от земли до крайних звезд
Всё безответен и поныне
,
Души отчаянной протест?
Сопоставив два стихотворения, понимаем, что мусикийский шорох может струиться из тростника, в который превратилась нимфа Сиринга, о которой говорили древнегреческие мифы.
Пан и Сиринга
Н е миновали Пана стрелы златокрылого Эрота и полюбил он прекрасную нимфу Сирингу. Горда была нимфа и отвергала любовь всех. Любимым занятием ее была охота и часто Сирингу принимали за Артемиду, так прекрасна была юная нимфа в своей короткой одежде, с колчаном за плечами и с луком в руках. Как две капли воды, походила она тогда на Артемиду, лишь лук ее был из рога, а не золотой, как у великой богини. Однажды увидел Пан Сирингу и хотел подойти к ней. Взглянула на Пана нимфа и в страхе обратилась в бегство. Едва поспевал за ней Пан, стремясь догнать ее. Но вот путь пресекла река. Куда бежать нимфе? Простерла к реке руки Сиринга и стала молить бога реки спасти ее. Бог реки внял мольбам нимфы и превратил ее в тростник. Подбежавший Пан хотел уже обнять Сирингу, но обнял лишь гибкое, тихо шелестевшее растение. Стоит Пан, печально вздыхая, и слышится ему в нежном шелесте тростника прощальный привет прекрасной Сиринги. Срезал несколько тростинок Пан и сделал из них сладкозвучную свирель, скрепив неравные коленца тростника воском. Назвал бог лесов, в память о нимфе, свирель сирингой. С тех пор великий Пан любит играть в тени лесных деревьев на свирели - сиринге, оглашая ее нежными звуками окрестные горы.
е миновали Пана стрелы златокрылого Эрота и полюбил он прекрасную нимфу Сирингу. Горда была нимфа и отвергала любовь всех. Любимым занятием ее была охота и часто Сирингу принимали за Артемиду, так прекрасна была юная нимфа в своей короткой одежде, с колчаном за плечами и с луком в руках. Как две капли воды, походила она тогда на Артемиду, лишь лук ее был из рога, а не золотой, как у великой богини. Однажды увидел Пан Сирингу и хотел подойти к ней. Взглянула на Пана нимфа и в страхе обратилась в бегство. Едва поспевал за ней Пан, стремясь догнать ее. Но вот путь пресекла река. Куда бежать нимфе? Простерла к реке руки Сиринга и стала молить бога реки спасти ее. Бог реки внял мольбам нимфы и превратил ее в тростник. Подбежавший Пан хотел уже обнять Сирингу, но обнял лишь гибкое, тихо шелестевшее растение. Стоит Пан, печально вздыхая, и слышится ему в нежном шелесте тростника прощальный привет прекрасной Сиринги. Срезал несколько тростинок Пан и сделал из них сладкозвучную свирель, скрепив неравные коленца тростника воском. Назвал бог лесов, в память о нимфе, свирель сирингой. С тех пор великий Пан любит играть в тени лесных деревьев на свирели - сиринге, оглашая ее нежными звуками окрестные горы.
Николя Пуссен. Пан и Сиринга
Дата начала: 1637. Дата завершения:1638.
Дрезден. Галерея старых мастеров.

Пан и Сиринга
Франсуа Буше. Пан и Сиринга.1759. Национальная галерея, Лондон.

Варэн Шарль Никола.Франция, г. Париж. Последняя четверть XVIII - начало XIX в.
Государственное учреждение культуры Ярославской области "Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»

Александр Воронков. Пан и Сиринга, 1997
Собственно, сирингой у древних греков назывался музыкальный инструмент свирель, считавшийся принадлежностью аркадского бога Пана и вместе с тем греческих пастухов. Римляне называли сирингу arundo, calamus, fistula. Сиринга делалась следующим образом. Брали семь (иногда восемь или девять) полых стеблей тростника и прикрепляли их одну к другой с помощью воска, причем длина каждой трубки делалась различной с тем расчетом, чтобы можно было иметь полную гамму. Бывали сиринги и из одного стебля; в таком случае на них играли так же, как играют на современных флейтах, а именно через боковые отверстия. Сиринга стала родоначальницей современного органа.
Сиринга или сиринкс (греч. συριγξ) имеет два значения: - общее название древнегреческих духовых инструментов (тростниковых, деревянных, типа флейты (продольная), а также древнегреческая пастушечья многоствольная флейта или флейта Пана.
Флейта Пана
- это многоствольчатая флейта. Инструмент состоит из набора открытых с верхнего конца тростниковых, бамбуковых и других трубочек разной длины, скрепленных тростниковыми планками и жгутом. Каждая трубка издает 1 основной звук, высота которого зависит от ее длины и диаметра.
состоящая из нескольких (3 и больше) бамбуковых, тростниковых, костяных или металлических Трубки бывают длиной от 10 до 120 см. На больших панфлейтах, а также двухрядных, играют вдвоём.
Название флейты Пана происходит от имени древнегреческого бога Пана, – покровителя пастухов, который обычно изображается играющим на многоствольной флейте.

Римская копия греческой скульптуры, найденная в Помпеях «Пан обучает Дафниса игре на сиринге».
 Пабло
Пикассо
.
Флейта
Пана
1923. France, Paris, Musee National
Picasso
Пабло
Пикассо
.
Флейта
Пана
1923. France, Paris, Musee National
Picasso

Артур Вардль. Флейта Пана1889,галерея в Лондоне.

Томас Икинс Аркадия 1883 г Музей Метрополитен (Нью-Йорк)
Кувиклы [ 6 ] (кугиклы) - русская разновидность «флейты Пана». У русских первым обратил внимание на флейту Пана Гасри, давший весьма неточное её описание под названием свирель или свирелка. О кувиклах писал Дмитрюков в журнале «Московский телеграф» в 1831 году. На протяжении XIX в. в литературе время от времени встречается свидетельства об игре на кувиклах, особенно на территории Курской губернии. Кувиклы представляют собой набор пустотелых 3-5 трубок различной длины (от 100 до 160 мм) и диаметра с открытым верхним концом и закрытым нижним. Инструмент этот изготавливался обычно из стеблей куги (камыша), тростника, бамбука и т. д., дном служил узел ствола.

Мусикийский шорох «струится в зыбких камышах». Образ данных растений поэтизируется с древнейших времен. Если визуализировать растения, из которых производили данные музыкальные инструменты, то можно представить следующие картины. [ 7 ]

В список ботанических видов, соответствующий расплывчатой категории «библейский тростник», несомненно входят два представителя семейства Злаки (Мятликовые, Poaceae). Это: Тростник обыкновенный - Phragmites communis, распространенный по всей планете многолетний длиннокорневищный злак. Стебель полый как почти у всех злаков. Высота до 4-5 м. Произрастает в воде, по берегам и на суше, причем может жить на умеренно засоленных почвах (но на суше он меньших размеров). Соцветие-метелка крупное, красивое из-за длинных волосков в колосках. Листья могут поворачиваться по ветру благодаря способности нижней трубчатой части листа (влагалища) вращаться вокруг стебля. Молодые побеги и корневища съедобные.

Второй вид околоводного злака, несомненно известного Библии - Тростник кипрский (гигантский) - Arundo donax. Высота до 6 м. От воды не уходит, чем отличается от предыдущего вида, с которым в целом сходен по многим другим биологическим характеристикам. Листья длинные, шириной до 6 см (больше, чем у предыдущего вида). Распространен исходно по всему Средиземноморью, откуда был занесен человеком восточнее, в частности еще в глубокой древности попал как хозяйственное и строительное растение в Среднюю Азию, а в новейшее время – и в западной полушарие. В Калифорнии, например, превратился в надоедливый вид-чужак, активно подавляющий местные растения, расползающийся по всем водоемам и водотокам, засоряющий водозаборы и создающий постоянную угрозу пожаров. В России встречается только самых теплых территориях (в частности, в Закавказье ).

Как и тростники, Камыш озерный
произрастает у воды огромной массой в тысячи стеблей. Цветки и соцветия у него совершенно иные, нежели у злаков, а развитых листьев у этого вида камыша вообще нет. Стебель высотой до 3 м выглядит как длинный вертикальный хлыстик зеленого цвета с метелкой колосков на верхушке. Камыши не имеют полых стеблей. Их стебли заполнены мягкой губчатой тканью.
Но в стихотворении Ф. И. Тютчева тростник не простой, а мыслящий. Отсюда вопрос: почему он мыслящий?
Тютчев вслед за Блезом Паскалем говорит, что человек,  - лишь тростник, слабейшее из творений природы, но «тростник мыслящий». Величие человека, по словам Паскаля, в том и заключается, что он сознает свое ничтожество. Отвлеченные науки оказываются не только бессильны в своих притязаниях на познание мира, но мешают человеку понять его собственное место в мире, задуматься, «что это такое - быть человеком».
- лишь тростник, слабейшее из творений природы, но «тростник мыслящий». Величие человека, по словам Паскаля, в том и заключается, что он сознает свое ничтожество. Отвлеченные науки оказываются не только бессильны в своих притязаниях на познание мира, но мешают человеку понять его собственное место в мире, задуматься, «что это такое - быть человеком».
Блез Паскаль (1623–1662 )
Мысли Паскаля, естественно нашли выражение и в искусстве XVII века. Стиль барокко начинает формироваться с XVII века. Первоначально слово «барокко» обозначало (порт. «barocco» – жемчужина неправильной формы), и его появление связано с кризисом идеалов Возрождения. Барокко – это и стиль, и некая тенденция беспокойного романтического мироощущения. В каждом времени, да, пожалуй, что и в наши дни, находят свой «период барокко» как этап наивысшего творческого подъема, напряжения чувств и мыслей. Естественно, что новые открытия нового времени разрушали прежние представления о человеке и мироздании. Разница в понимании места, роли и возможностей человека и отличает прежде всего искусство XVII столетия от Ренессанса. Это иное отношение к человеку выражено с необыкновенной ясностью и точностью тем же великим французским мыслителем Паскалем: «Человек всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он - тростник мыслящий». Этот «мыслящий тростник» создал в XVII в. мощнейшие абсолютистские государства в Европе, сформировал мировоззрение буржуа, которому предстояло стать одним из основных заказчиков и ценителей искусства в последующие времена. Сложность и противоречивость эпохи интенсивного образования абсолютистских национальных государств в Европе определили характер новой культуры, которую принято в истории искусства связывать со стилем барокко, но которая не исчерпывается только этим стилем. XVII столетие - это не только искусство барокко, но и классицизм, и реализм.
Отражая сложную атмосферу времени, барокко соединило в себе, казалось бы, не соединимые элементы. Черты мистики, фантастичности, иррациональности, повышенной экспрессии удивительно уживаются в нем с трезвостью и приземленностью, с истинно бюргерской деловитостью. При всей своей противоречивости барокко вместе с тем имеет вполне выраженную систему изобразительных средств, определенные специфические черты.
«Для барокко характерна живописная иллюзорность, желание обмануть глаз, выйти из пространства изображенного в пространство реальное. Барокко тяготеет к ансамблю, к организации пространства: городские площади, дворцы, лестницы, парковые террасы, партеры, бассейны, боскеты; городские и загородные резиденции построены на принципе синтеза архитектуры и скульптуры, подчинения общему декоративному оформлению. Художественная культура барокко допускала в сферу эстетического символизм и мистицизм, фантастическое и гротескное, безобразное наряду с прекрасным. Новый стиль был идейным и эстетическим поиском целостного и гармоничного мировосприятия, утраченного вследствие кризиса Возрождения и Контрреформации. Художник барокко стремился воздействовать на чувства, воображение зрителя, а не только посредством линий и красок передавать визуальный образ».
Именно эта мысль представлена и на полотнах Николя Пуссена Франсуа Буше « Пан и Сиринга» и их поледователей. Это же величие мы можем наблюдать в архитектуре, скульптуре и парковой культуре.
Регулярные «французские» парки боскетами, аллеями, партерами и водоёмами геометрически правильных форм, своими прямолинейными дорожками и фигурными формами тщательно обрезанных кустарников подчёркивали абсолютный контроль человека над природойутверждают наивысшую ценность того искусства, которое неотличимо от природы.
«Французский» парк:
Версаль

«Английский» парк

Система пейзажного парка воплощала идею преклонения перед природой, красотой её естественных пейзажей, Создатели таких парков стремились к постижению равновесия и гармонии, существующих в природе.
Яркий образец такого подхода в архитектуре - палаццо (дворец) Барберини (1625-1663 гг.).


Перед нами то, что этот «мыслящий тростник» создал в XVII веке, в результате поиска целостного и гармоничного мировосприятия, воздействует на чувства, воображение зрителя, не только посредством линий и красок, а передает визуальный образ.
Безусловно, в Италии – это творения Лоренцо Бернини. Достаточно взглянуть на его работы.

Лоренцо Бернини. Экстаз Святой Терезы. 1652г. Рим. Санта Мария делла Виттория.

Лоренцо Бернини. Площадь собора Святого Петра.1663г.
Аллегорическия образ скульптуры и живописи мы можем наблюдать на картине Гверчино, которая украшает палаццо Барберини.

Гверчино. Аллегория живописи и скульптуры. 1657
(Иррациональное освещение, темный мрачный фон, крупные фигуры, простонародные типажи, он активно использовал, размывающее скульптурную четкость формы, все это характерно для искусства барокко).
Все предыдущее творчество человека – это способ познать самого себя и свое место в жизни. Продолжая мысль Паскаля: «Мы ищем счастья, а находим лишь горечи и смерть». По глубокому его убеждению, человек, осознавший трагизм своего положения, может найти выход только в христианской вере. Только христианская религия с ее учением о грехопадении и преемственности греха дает удовлетворительное объяснение этой двойственности человека, что является для Паскаля аргументом в пользу ее реальности. Таким образом, единственный возможный подход к тайне человеческой природы - это подход религиозный. Религия утверждает, что человек двойствен; одно дело человек до грехопадения, другое - после. Человек был предназначен для высшей цели, но утратил это предназначение. Грехопадение лишило его сил, извратило разум и волю.
«Поэтому классическая максима «Познай самого себя» в философском смысле - смысле Сократа, Эпиктета или Марка Аврелия - не только малодейственна, но ложна и ошибочна. Человек не может доверять себе и читать в себе. Он сам должен молчать, чтобы слышать высший глас, глас истины. «Что станется с тобой тогда, о человек, когда ты естественным разумом обнаружишь свое действительное положение? Знай же, обуянный гордыней, что и сам ты сплошной парадокс. Смири себя, немощный разум, умолкни, неразумная природа, помни, что человек бесконечно превосходит человека. И услышь от Творца своего о своем действительном положении, тебе покамест неведомом. Слушай Бога» [ 9 ]
Ф. И. Тютчев в своем стихотворении приходит к подобной же мысли:
,
Души отчаянной протест?
Евангельскими мыслями и риторическим вопросом завершается стихотворение, значит и поэт не нашел для себя ответа. Но он слышит не только мусикийский шорох, но и мусикийское пение в «общем хоре». И как мы понимаем, это не только песнопение, но и философия, которая также приводит к согласию человеческого естества, то есть к богу, вере. Древнерусская певческая система - это поистине отражение Божественного небесного Порядка, воссозданного на Земле духовным подвигом русского человека.
Конечно, Ф. И. Тютчев не мог также не знать и о мусикийском песнопении, которое в это время было характерно для богослужений в России.
Опять же вопрос. Что есть мусикия?
Ответ: «Есть мусикия согласное художество и преизящное гласовом разделение; - известное ведения (sic !) разньства, познание приличных благих гласов и злых, еже есть разньствие в согласие показующих. Мусикия есть вторая философия и грамматика, гласы степенми премеряющая, якоже в словесной философии, или грамматице, исправление словес свойство их, слог, речение, разсуждение, познание и нарицание стихиам, всем качеством и количеством. Такожде и мусикия вся Степени гласовом имущая, умиления, или радости претворением, счинением, яко риторски, или философски красящая слухи слышащих, якоже бряцанием в бездушных орудиах, такожде и языком словеса по степенех водящих, и глас нижайший, средний же и высокий издающая. Мусика есть во всех родех познавающая согласие и второе хитростное естества человеческа и по естеству, а не чрез естество, учение, и есть от бога. Понеже ничтоже зло сотворити может, но благо естеством текущему. Произволением же зла злословящему, аще бо хвалиши - хвалит, аще ли свариши - сварит, и все то ума произволению сугубо слепляема бывает, речению и гласу соединившуся. Мусикия церковь красну творит, божественная словеса благим согласием украшает, сердце возвеселяет, в души радость в пении святых устрояет. Мусикия есть, якоже словесная грамматика, гласовом исправляющая грамматика» . [ 9 ]
Все стихотворение проникнуто этим высоко – трагичным звучанием в эти тяжелые для него дни. И о чем думал поэт мы, современники, можем только догадываться, внимательно вчитываясь в каждое слово поэта.
Библиография.
Этимологический словарь Макса Фасмера);
Ю.Н. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино.// Вопрос о Тютчеве. - М.: Наука, 1977.
М.В. Белкин, О. Плахотская. Словарь «Античные писатели». СПб.: Изд-во «Лань» , 1998.
М. Л. Гаспаров. Авсоний. Стихотворения. М., Наука, 1993 г. (« Литературныепамятники»).
Кун Н.А., Нейхардт А.А. "Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима" - СПб.: Литера, 1998
Музыкальные инструменты в живописи.
Растения в библии.
История искусств. Западноевропейское искусство: Учеб./ Т.В. Ильина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2002. – 368 с.: ил.
Канетти Э. Превращение // Проблема человека в западной философии. - М.: 1988. С. 490.
Музыкальная эстетика России ХI-ХVIII веков. Составление текстов, переводы и общая вступительная статья А. И. Рогова. М.: Изд-во «Музыка», 1973.
В русской литературе XIX века особое место принадлежит Федору Ивановичу Тютчеву, создавшему, по мнению И. С. Тургенева, «речи, которым не суждено умереть». Одна из центральных тем в его зрелой лирике — тема любви, особым драматизмом раскрывающаяся в стихах, посвященных Е. А. Двнисьевой. Состояние влюбленности для поэта столь же естественно, как и напряженные мысли о вечных вопросах бытия.
Читая стихотворение «Певучесть есть в морских волнах …», представляется человек, одиноко стоящий на берегу моря и размышляющий о жизни и смерти, любви и свободе, сиюминутном и вечном …
У Тютчева немного стихотворений с точными датами. В данном случае она известна — 11 мая 1865 года. Стихотворение писались прямо в коляске, во время поездки автора на острова в Петербурге на девятый день смерти его детей от Денисьевой.
«Певучесть есть в морских волнах,
Гармония в стихийных спорах,
И стройный мусикийский шорох
Струится в зыбких камышах».
В этих строках виден поэт особого философского склада — у него не только дар пейзажиста, но и своя философия природы. Его ум бьется над загадками мироздания, стараясь проникнуть в тайну противоречивого единства природы и человека.
«Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в природе, _
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаем».
Тютчев говорит о разъединении человека с природой как о чем-то противоестественном, не соответствующем «невозмутимому строю» природного бытия. Душа, поющая не то, что море, противопоставляется «созвучью полному в природе».
Человек — это тростник, стоящий перед огромной вселенной-морем. Но это тростник «мыслящий», он ропщет в общем хоре, вместо того чтобы издавать стройный шорох в гармонии с бытием.
«Откуда, как разлад возник?
И от чего же в общем хоре
Душа не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник?»
«Пытаясь понять его причину, автор предполагает, что разлад существует более в сознании человека, а не в действительности. Как говорится в 4-й, не публикуемой в последствии строфе, человеческой души отчаянный протест остается «гласом вопиющего в пустыне. Причина разлада с природой заключена в самом человеке. Не она отвергает его, а он сам, погруженный в злые страсти, не в силах принять в себя ее гармонический и благодатный мир. В то же время общий строй бытия природы таков, что живая индивидуальность выделена из него.
Тютчев считает, что этот разлад — временный протест, после чего происходит либо слияние с природой, либо гибель (не случайно поэт сравнивает человека с тростником, который растет не на суше, а в «прибрежных камышах» и погибает без воды).
Язык стихотворения поражает своей красочностью, живостью, трепетностью слов и оборотов. Поэт использует метафору «мыслящий тростник» — человек, эпитеты «стихийные споры», «зыбкие камыши», «призрачная свобода». И что интересно: от произведения не веет сочиненностью, оно кажется само собой родившимся.
Природа в стихотворении, словно живое существо. Она чувствует, дышит, грустит. Само по себе одушевление природы обычно для поэзии, но для Тютчева это не просто олицетворение, не просто метафора: живую красоту природы. Он «принимал и понимал не как свою фантазию, а как истину».
В «Певучести …» немало реминисценций: это и «мыслящий тростник» Блеза Паскаля, который писал, что человек всего лишь тростинка, но он возвышеннее вселенной, «ибо имеет сознание» ; и римский поэт Авсоний, вложивший в слова «естъ музыкальная стройность в прибрежных камышах» (эпиграф к стихотворению) христианский подтекст, и не вошедший в итоговую редакцию библейский «глас вопиющего в пустыне».
Ф. И. Тютчев пытается познать беспредельные миры непознанного: таинственный «океан» вселенского бытия и сокровенные стороны человеческой души. Это очень характерное для поэта стихотворение, где явление в природе подобно тому, что происходит в душе человека. Стихийные споры потрясают не только природу, но и внутреннюю жизнь человека, обогащая ее многообразием чувств, но чаще оставляя после себя боль утраты и душевную опустошенность.
«И от земли до крайних звезд
Все безответны и поныне.
Глас вопиющего в пустыне,
Души отчаянный протест».
Читая стихотворение «Певучесть есть в морских волах …» понимаешь, что размышления автора становятся и твоими личными размышлениями. Мысль Тютчева всегда сливается с образом, взятым из мира души или природы, проникается им и сама его проникает нераздельно и неразрывно. В этом и состоит загадка поэзии и философии Ф. И. Тютчева.
Жанр: лирическое стихотворение (вид лирики — пейзажная, философская).
КОМПОЗИЦИЯ И СЮЖЕТ
Композиционно стихотворение в виде лирического фрагмента распадается на три части.
Часть 1
Высказывается мысль, что в мире природы всё подчинено всеобщему закону гармонии: «Невозмутимый строй во всём, // Созвучье полное в природе».
Часть 2
Осознание разлада человечества с природой: «Лишь В нашей призрачной свободе // Разлад мы с нею сознаём».
Часть 3
Лирический герой пытается понять причины человеческой оторванности от мира природы: «Откуда, как разлад возник?»; он признаёт, что свобода человека «призрачна».
5 / 5. 6
Шорох
Струится в зыбких камышах.
Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в природе, -
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаем.
Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что море,
Другие редакции и варианты
3 И [тихой] мусикийский шорох
После 12 И от земли до крайних звезд
Все безответен и поныне
Глас вопиющего в пустыне
Души отчаянной протест?
Автограф - РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 6.
КОММЕНТАРИИ:
Автограф - РГБ. Ф. 308. К. 1. Ед. хр. 6.
Списки - Муран. альбом (с. 125–126), с пометой: «11 мая 1865»; Альбом Тютч. - Бирилевой (с. 40), с той же датой.
Первая публикация - РВ. 1865. Т. 58. Август. С. 432. Вошло в Изд. 1868. С. 215; Изд. СПб., 1886. С. 276; Изд. 1900. С. 279.
Печатается по списку Муран. альбома.
Автограф черновой. 3-я строка первоначально выглядела: «И тихой мусикийский шорох». Слово «тихой» зачеркнуто и наверху надписано: «стройный». Имеется 4-я строфа, отсутствующая и в списках, и в печатных текстах, начиная с Изд. 1868.
В качестве эпиграфа выбрана строка римского поэта Авзония (IV в. до н. э.), с заменой «in» вместо «et»: «…или память ему изменила, или в руках у него было издание с этим вариантом», - объясняет А. И. Георгиевский в работе «Тютчев в 1862–1866 гг.»(цит. по: Тютч. в восп. С. 200). Георгиевский сообщает, что был вынужден обратиться за справками к профессору Петербургского университета И. И. Холодняку, который привел полный текст стиха Авзония:
Est et arundineis modulatio musika ripis,
Cumque suis loquitur tremulum comapinea ventis
(«И поросшим тростником берегам свойственна музыкальная гармония, и косматые макушки сосен, трепеща, говорят со своим ветром» - лат. ). Изд. 1868, Изд. СПб., 1886 ошибочно печатали эпиграф в качестве заглавия стихотворения.
РВ следует за автографом, сохраняя все 16 поэтических строк. Относительно четвертой строфы Георгиевский писал: «Когда и кем и по каким соображениям была опущена эта строфа в печатных изданиях, об этом, к сожалению, мне не довелось расспросить самого Тютчева, да очень может быть, что он ничего и не знал об этом пропуске в тех изданиях, которые появились еще при его жизни. Быть может, тогдашняя наша цензура была против третьего стиха в этой строфе, как заимствованного из Священного Писания, а также и против четвертого стиха, так как душе христианина не подобает впадать в отчаяние, ни протестовать против велений Неба, а может быть, и сам поэт нашел некоторую неясность и неопределенность в этой строфе, некоторое неудобство привести слова из Священного Писания не в том смысле, как они были сказаны, или нашел всю эту строфу чрезмерно мрачною по своему содержанию; но несомненно, она вполне соответствовала тогдашнему его настроению, в котором он готов был отчаянно протестовать против преждевременной смерти столь любимых им существ (Е. А. Денисьевой, «последней любви» Тютчева, скончавшейся в 1864 г., и двух их маленьких детей - Лёли и Коли, умерших в начале мая 1865 г. - Ред. ) и не раз задавал себе вопрос, стоило родиться на свет Божий этой бедной Лёле (старшей Лёле, Е. А. Денисьевой. - Ред. ), самым рождением своим причинившей столько горя многим лицам» (Тютч. в восп. С. 200). Стихотворение родилось после похорон маленьких Лёли и Коли. Мари, сводная сестра Е. А. Денисьевой, была «большим утешением и отрадою» Тютчева в те дни, вспоминает Георгиевский. «Погода стояла чудесная, какая нередко бывает в Петербурге в первой половине мая, - писал он, - и они вместе с Федором Ивановичем в открытой коляске отправлялись то на Волково кладбище, на могилу обеих Лёль и Коли, то на Острова. В одну из таких поездок Федор Иванович на случившемся у него в кармане листке почтовой бумаги, сидя в коляске, написал карандашом для Мари свое прекрасное стихотворение с эпиграфом: «Est in arundineis modulatio musika ripis…» (Тютч. в восп. С. 199). Четвертая строфа не появилась в Изд. 1868 , скорее всего, с ведома Тютчева; отсутствует она и в списках, сделанных дочерью поэта. Могла сыграть роль и неточность рифмы: «звезд» - «протест» (хотя, конечно, «звезд» читалось с е - не ё ).
По поводу первого появления стихотворения в печати И. С. Аксаков написал Е. Ф. Тютчевой: «В «Русском вестнике», в последней книжке, напечатаны стихи Федора Ивановича. Прекрасные стихи, полные мысли, не нравится мне в них одно слово, иностранное: протест» (Последняя любовь. С. 60). «По-видимому, - отмечает К. В. Пигарев, - мнение Аксакова было принято Тютчевым во внимание: в списке М. Ф. Бирилевой последняя строфа, заканчивающаяся словами «протест», отсутствует. Нет оснований думать, чтобы дочь поэта самовольно решилась сократить эту строфу. Вместе с тем очевидно и то, что список предшествует Изд. 1868 г., а не наоборот» (Лирика I. С. 423–424). Впрочем, в Изд. 1984 (текстологическую подготовку текста осуществил Пигарев) стихотворение напечатано с 4-й строфой (см. с. 202).
Несогласие с мнением И. С. Аксакова высказал Б. М. Козырев: «Можно пожалеть, что в издании «Литературных памятников» последняя строфа была в угоду аксаковскому мнению устранена из текста. Пронзительность стилистического диссонанса этой строфы: «И от земли до крайних звезд / Все безответен и поныне / Глас вопиющего в пустыне, / Души отчаянный протест» - глубоко соответствует трагическому содержанию стихотворения. А с исчезновением ее исчезла и вся трагичность, весь смысл этой вещи, представлявшей собой вопль о «заброшенности» человека в музыкально стройной, но чуждой ему Вселенной»(ЛН-1. С. 87).
«Здесь читатель находит, с помощью комментария, чисто тютчевскую амальгаму цитат из Авзония, книги пророка Исайи из Библии и «Мыслей» Паскаля. Кроме того, Грэгг обнаружил в 3-й строфе парафразу из Шиллера («Die Räuber», IV, 5).
Ко всем этим источникам я добавил бы, пожалуй, еще два: пифагорейско-платоническое учение о мировой гармонии («Невозмутимый строй во всем, / Созвучье полное в природе…») и, наконец, в парадоксальнейшем контрасте с этой философией, выражение «отчаянный протест», словно бы сошедшее со страниц радикальной журналистики 60-х годов. А все вместе есть настоящее тютчевское творение. Наряду со многими иными элементами оно (как и ряд других его «чисто философских», т. е. построенных больше на размышлении, чем на поэтической интуиции вещей) содержит выпады против рационалистического, картезианско-спинозистского представления о природе как о бездушном механизме» (там же).
Л. Н. Толстой отметил стихотворение буквами «Т. Г.!» (Тютчев. Глубина!).
Интерпретируя стихотворение, В. Я. Брюсов писал: «Но человек не только - ничтожество, малая капля в океане природы, - он еще в ней начало дисгармонирующее. Человек стремится укрепить свою обособленность, свою отдельность от общей мировой жизни, и этим вносит в нее разлад» (Брюсов В. Я. Ф. И. Тютчев. Смысл его творчества // Брюсов В. Я. Собр. соч.: В 7 т. М., 1975. Т. 6. С. 197).
В. Ф. Саводник замечал: «Природа живет своей особенной, цельной и самодовлеющей жизнью, полной красоты и величия и гармонии, но чуждой всему человеческому и равнодушной к нему. Именно этой цельности и полноты бытия нет у человека, которому не дано слиться воедино с природой, приобщиться к загадочной и прекрасной мировой жизни. Поэт с грустным недоумением останавливается перед вопросом об этом разладе между человеком и природой, задумывается над его причинами» (Саводник. С. 187).
«Первоначальный грех в исконном эгоизме человека, - утверждал Д. С. Дарский. - Это он мешает войти в созвучный строй природы. Человек выделил себя из природы. Преувеличенно привязанный к своей обособленности, он оторвался от единодушной цельности мирозданья и упорствует в немощном самоутверждении. В человеке нет ни отклика, ни причастия к вселенской жизни, и несогласимым диссонансом звучит он в общем хоре» (Дарский. С. 124).
По мысли Д. С. Мережковского, Тютчев сначала думал, что «в мире человеческом - ложь и зло, но в мире стихийном - истина и благо…» (Мережковский. С. 82). Поставленный в стихотворении вопрос, считал исследователь, «остался без ответа, но зато углубился до бесконечности, когда вопрошающий увидел, что разлад - не только между человеком и природой, но и в самой природе, что зло - в самом корне бытия, в самой сущности мира как воли» (там же).
Гармония в стихийных спорах,
И стройный мусикийский шорох
Струится в зыбких камышах.
Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в природе, -
Разлад мы с нею сознаем.
Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник?
И от земли до крайних звезд
Всё безответен и поныне
Глас вопиющего в пустыне,
Души отчаянной протест?
Анализ стихотворения «Певучесть есть в морских волнах» Тютчева
Стихотворение «Певучесть есть в морских волнах» Ф.Тютчев написал в 1865 году. Это яркий пример пейзажной и философской лирики. Жанр данного поэтического произведения можно определить как элегию.
Тема стихотворения раскрывает отношения человека и природы. Уже в самом начале произведения поэт ставит главный акцент на гармонии процессов, которые происходят в природе:
Певучесть есть в морских волнах,
Гармония в стихийных спорах.
Отсыл к музыкальной тематике («певучесть») не случаен: именно в музыке мелодичность и экспрессия достигаются благодаря композиционной и звуковой упорядоченности. В противном случае набор звуков звучал бы хаотично и бессмысленно. То же и с природой: на первый взгляд, «в стихийных спорах» нет никакого порядка. Однако звуки природы часто рождают собственную музыку, в которой есть свой ритм. Так появляется «созвучье полное в природе». Человек – это тоже частичка природы. Но не всегда мы осознаем себя этой частью и стремимся возвыситься над тем, что нас окружает.
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаем.
Такой диссонанс в отношениях человека и природы порождает «души отчаянный протест». Как бы в насмешку Тютчев говорит про человека: «мыслящий тростник». Эти строки отсылают нас к афоризму Паскаля, утверждавшего, что человек – всего лишь слабая тростинка. Да, венец творения может мыслить и философствовать, что не дано природе, но это не приводит его к гармонии.
В конце стихотворения содержится риторический вопрос. В его подтексте мы читаем и отчаяние, и мысль о неразумности человеческой судьбы и призрачности счастья.
Композиция произведения
Противопоставление угадывается не только на содержательном уровне, но и на композиционном. Антитетическое построение делит стихотворение на две части. Первая описывает картины «созвучья полного» в природе. Вторая – дисгармонию человеческих исканий.
Анализ средств художественной выразительности и стихосложения
Стихотворение написано четырехстопным ямбом. Поэт использует кольцевую рифму, что придает стихотворению неспешность, замедляя его темп.
Автор вводит в свое произведение эпитеты: стройный шорох, зыбкие камыши, призрачная свобода. Метафоричность читается в словосочетании «мыслящий тростник», использованном в качестве именования человека. Эмоциональную выразительность подчеркивает синтаксический параллелизм: «Певучесть есть в морских волнах, // Гармония в стихийных спорах».
Дополнительный музыкально-мелодический эффект создает аллитерация. В первой строфе повторение звука «С» помогает услышать шум моря. В третьей строфе, где описываются душевные волнения человека, используется частый повтор звука «Р», который усиливает волнение.







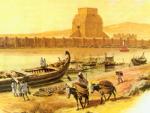
 Чем Бухсофт Онлайн лучше обычной бухгалтерской программы!
Чем Бухсофт Онлайн лучше обычной бухгалтерской программы! Какой год является високосным и как его рассчитать
Какой год является високосным и как его рассчитать Молитва для зажигания лампады дома
Молитва для зажигания лампады дома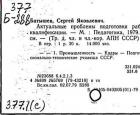 В чем же была их сила и в чем слабость
В чем же была их сила и в чем слабость